Черная дыра нарциссизма
«Вы живы тогда и только тогда, когда обладаете психической жизнью. Какой бы расстраивающей, непереносимой, смертоносной или возбуждающей она ни была, эта психическая жизнь, она дает нам доступ к нашему телу и к другим людям», — считает Юлия Кристева.
Сегодня в рубрике «Практика» представляем клинический пример из опыта этого французского психоаналитика. История Дидье — это пример работы с пациентом, который теряет свою душу, сам того не подозревая…
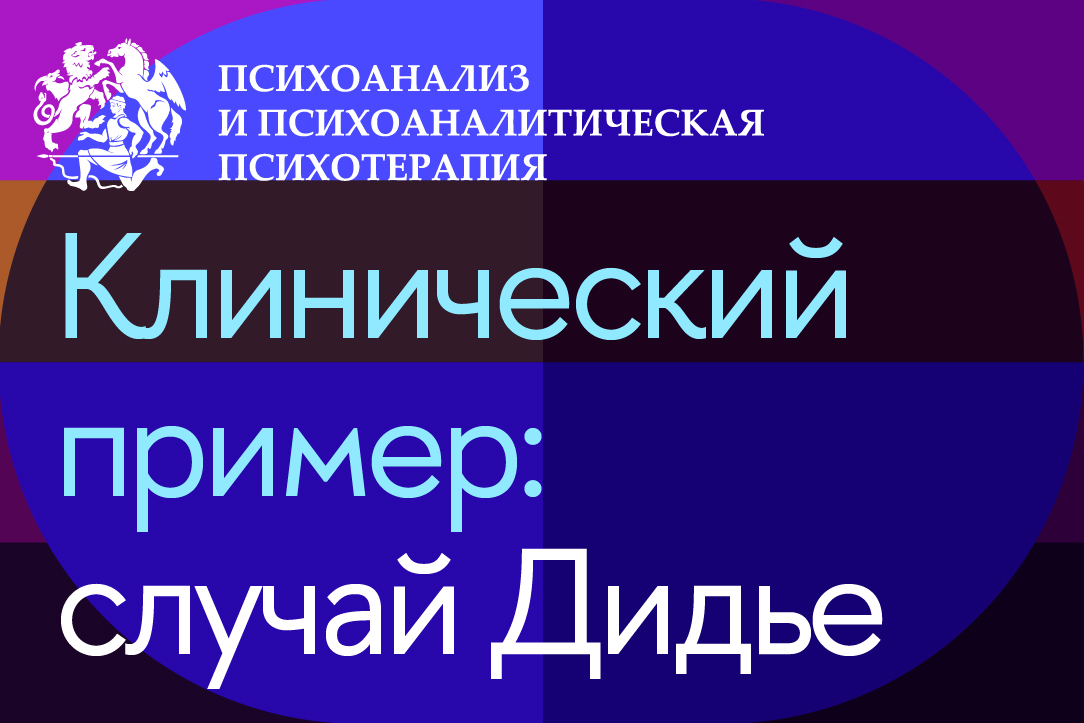
Лечение невозможно?
Дидье пришел в анализ из-за проблем во взаимоотношениях. В письме к Юлии Кристевой он писал, что восхищается ее книгами по искусству и литературе, и считает, что она — единственный человек, способный направлять его на пути психоанализа.
«С самых первых сессий меня поразила лаконичная речь Дидье, что могло рассматриваться мной как знак того, что лечение кажется невозможным», — вспоминает психоаналитик. Она была абсолютно убеждена в том, что пациент говорил с единственной целью — игнорировать ее.
«Даже когда я была в состоянии пробиваться сквозь этот “непроницаемый аппарат для подводного плавания”, Дидье удавалось сразу же нейтрализовать мои слова, — пишет Юлия Кристева. — “Да, это так, я сам собирался сказать об этом”, — отвечал он».
Пациент даже наметил собственный план анализа: «Меня не интересуют чувства, я просто хочу знать».
Дидье описывал себя как человека одинокого, неспособного любить, нейтрального, отчужденного от своих коллег и жены, даже индифферентного к смерти своей матери. Поддерживать его интерес могли лишь мастурбация и написание картин.
Опустошающая близость
Дидье родился вслед за сестрой, мать его обожала. Она одевала его как девочку и стригла под девочку, пока Дидье не пошел в школу.
«Мать властвовала в жизни маленького сына, делая его средством осуществления своего инвертированного желания, ибо, превращая сына в дочь, она могла любить себя в образе маленькой девочки», — считает Юлия Кристева.
В процессе психоаналитической работы Дидье не говорил «моя мама» или «наша мама», вместо этого он использовал определенный артикль «la» (la mère, мать). Этот артикль был частью его защитной системы.
«Он мог защитить Дидье от подавляемой, возбуждающей и опустошающей близости, которую сын разделял со “своей” матерью, — поясняет Юлия Кристева. — Это поддерживало его дискурс на абстрактном уровне («мать») и сохраняло его личность в чудесной изоляции. Если «la mère» не является кем-то определенным, тогда нет никого».
Застывшее сновидение
На одном из сеансов пациент рассказал сон.
Дидье высовывается из окна родительского дома, летит вниз и переживает мгновение интенсивной тревоги. Это вызывает у него пронзительный крик ужаса (хотя он не уверен в этом, потому что сновидение было «бесшумным»). Внезапно пациент оказывается перед зеркалом, в котором видит отражение своей сестры. Это вызывает у него некоторое возбуждение и заставляет проснуться.
Молодой человек не рассказывает о деталях: нет описания дома, окна или зеркала.
«Сновидение “отображало” пустое пространство — это было застывшее сновидение, — считает Юлия Кристева. — Я думаю о его тревоге при столкновении с бездной, то есть о его тревоге при столкновении с кастрацией женщины, его сестры. Зияющее окно представляло собой безутешную муку небытия — черную дыру нарциссизма и убийства самости, которое вело меня к некоторым неразвитым областям психики Дидье».
Если гипотеза психоаналитика о «нарциссической черной дыре» справедлива и Дидье воспринимает себя как сестру, как женщину или как двойника своей матери, то такое восприятие накладывает неизгладимый отпечаток на эту «черную дыру».
Между зеркалом и бездной
Однако Дидье не путал себя со своей сестрой. Быть женщиной в его семье — не очень заманчивое предложение, поскольку ни отец, ни мать не интересовались его сестрой.
«Он не видел какого-либо решения; у него не было другого выбора, кроме как оставаться нарушенным, — пишет Юлия Кристева. — При столкновении с бездной под окном и с зеркалом с отражением сестры, Дидье выбрал зеркало. Он равнодушно оставался фетишистским объектом своей матери».
Интерпретируя страх пациента потерять свою сексуальную идентичность, психоаналитик предположила, что за этим страхом может скрываться катастрофическая тревога тотального уничтожения Я.
«Я так не считаю», — апатично отрицал пациент. Затем наступило молчание.
«За этим не последовал какой-либо дополнительный прогресс, — рассказывает психоаналитик. — Дидье признался мне, что он никогда не выбросится “в это окно” и “никогда не подарит жизнь кому-либо другому”. Возможно, он также надеялся, что из нашей работы не выйдет ничего путного».
Юлия Кристева пыталась связать его непроницаемость с запертыми на висячий замок апартаментами его матери (после ее смерти Дидье оставил в комнате матери всё так, как было при ее жизни).
«Дидье не желал впускать меня в свою частную жизнь, потому что мать всегда забирала всё с собой, он боялся, что мать обнаружит его страсти, его страхи, его ненависть, — продолжает психоаналитик. — Опасался ли он, что если он мне откроется, то я позволю ему выпасть из окна? Или же, скорее, опасался, что я буду держать зеркало, которое не смогло отразить его мужское лицо?».
Парадокс актера
Юлия Кристева отмечает, что речь пациента была нейтральна, тщательно выверена, информативна, содержательна и, в то же время, как будто предназначена для того, чтобы не допустить до сознания пациента его собственные влечения, особенно агрессивные.
«Дидье лишь тогда отходил от своей “нейтральности”, когда говорил со мной о своих картинах, — заметила психоаналитик. — Во время таких моментов его голос становился воодушевленным, лицо заливалось румянцем, эмоции выходили наружу. Казалось, что написание картин было скрытой частью айсберга, который Дидье создавал своими рассуждениями».
Картины заменили ему взаимоотношения между репрезентацией вещи и репрезентацией слова (эти понятия мы разбираем в процессе обучения на программе, в том числе на семинарах мэтров).
«Дидье, который носил в себе образы своих картин, не мог выразить свои чувства словами, то есть не мог дать живописное описание своих страстей, — говорит о своем пациенте Юлия Кристева. — Он мог, таким образом, восприниматься в качестве символической эмблемы современного человека — действующее лицо или потребитель общества развлечений, который утратил свое воображение».
Психоаналитик сравнивает молодого человека с актером, который может великолепно имитировать чувства других людей, но сам не способен испытывать какие-либо чувства.
Юлия Кристева предположила, что «язык» аффектов и желаний ее пациента надо искать не в его речи, а в его картинах.
«Я также поняла, что мы, вероятно, ранее допустили ошибку, ограничивая лечение рассмотрением защитной речевой деятельности Дидье, вместо того, чтобы также уделить время тем способам выражения, посредством которых, по-моему, он ранее закодировал свои травмы и желания», — пишет психоаналитик.
Язык травмы
Дидье принес на сессию несколько образцов своей художественной деятельности — комбинации коллажей и живописи — и по одной за сессию объяснял их. До этого единственным человеком, которому разрешалось смотреть на его картины, была мать.
«Меня поразила сила этого связанного с живописью “дискурса”, которая находилась в резком контрасте с нейтральностью, крайней вежливостью и абстрактным дискурсом, характерным для его прежнего поведения со мной, — вспоминает психоаналитик. — Этот художник работал с различным материалом — с покорными объектами, которые были поломаны, разбиты и расщеплены на куски, как если бы они были безжалостно убиты — и таким образом создавал новую идентичность. И ни одно лицо не оживляло фрагменты этих изуродованных персонажей, которые были в основном женского пола и которые показывались как обладающие ничтожной сущностью и непредвиденным уродством».
Таким образом, «черная дыра» травмы идентичности нашла свой язык в написании картин, садистическое влечение Дидье получило свободу выражения. В процессе работы психоаналитик давала название садистическим фантазиям пациента и их сексуальному смыслу, который она видела в его картинах, и который был недоступен сознанию самого пациента.
«Я предлагала Дидье свои собственные фантазии, которые пробуждали во мне его картины, — рассказывает психоаналитик. — Однако в процессе следования таким путем между нами установился воображаемый и символический контакт. Хотя он находил мой дискурс “редуцирующим” и “сверхупрощенным”, Дидье начал принимать, корректировать, изменять или отвергать мои интерпретации его коллажей. Начиная с этого времени и далее, он смог давать собственное наименование своей фантазматической деятельности, которая скрывалась под его невозмутимой техникой создания картин».
Портрет психоаналитика
По мере продвижения психоаналитического процесса, у Дидье исчез дерматит, он смог свободно говорить о своих фантазиях, чувствах и сексуальности. «Преимущественно позитивный» перенос сместился к отцовскому полюсу Эдипова комплекса, появилась возможность проработать влечения, которые прежде были вытесненными или сублимированными и проанализировать эдиповы конфликты Дидье со своим отцом.
«В конце лечения Дидье вручил мне мой портрет. Это был не коллаж, а картина, написанная им по фотографии, на которой я держала сигарету, — пишет психоаналитик. — На данном портрете, однако, мои пальцы ничего не держали».
«Ничего не держат пальцы, никакого пениса, никакого фетиша. Не правда ли, я хорошо постарался?», — сказал Дидье, «понимающе» улыбаясь (он стал гораздо более свободным и динамичным).
«Нарисовав мой портрет и сопроводив его собственным комментарием, Дидье дал мне то, что ранее давала ему я, — подытоживает Юлия Кристева. — Всё стало более сложным, чем это было вначале. Аналитическая работа стала возможна, и она дала Дидье доступ к своей психике».
* По материалам статьи Юлии Кристевой «Новые болезни души. Душа и мысленное представление».
